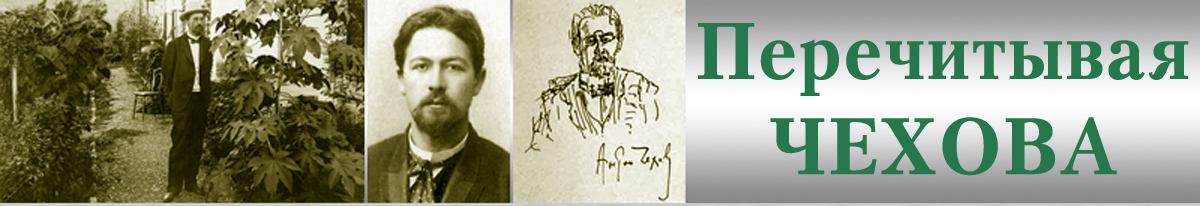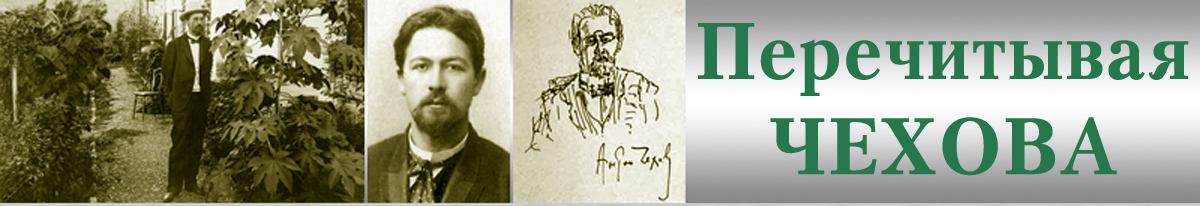Премьера: 30.05.2009 г.
Режиссер: С. Женовач, художник: А. Боровский, музыка Г. Гоберника
Актеры: А. Вертков, С. Аброскин, А. Рудь, А.М.Имамова, С. Качанов, О. Калашникова,
С. Пирняк, А. Обласов, М. Шашлова, Г. Служитель, А. Шибаршин, А. Лутошкин
Фото и сведения о спектакле с официального сайта театра: www.sti.ru
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
"Какая московская и пореформенная история! Новая жизнь не знает устоев. Устоявшихся форм благообразия - тем более. С дикой хитростью заброшенных детей здесь путают счета фирмы, «цукают» приказчиков, гнут оземь сыновей. Каждое поколение тяжестью своих обид давит на следующее. Один путь из круга: шаг за шагом. Через не могу, через обиду и отвращение.
Тут не семья формирует чувство долга, а именно чувство долга - семью.
Примерно тот же выбор предложен нам в новом русском раздрае". Елена Дьякова, Новая газета, 03.08.2009
"Создавая вместе с Александром Боровским среду, визуальный образ для чеховской премьеры в Студии театрального искусства, Сергей Женовач пошел по парадоксальному пути. Проигнорированы подробности: бытовые реалии провинциального городка, московской сутолоки, дачной жизнь в Сокольниках и Бутове, тоскливая атмосфера амбара, торгующего галантерейным товаром. Вместо всего этого режиссер и художник загромождают сцену множеством железных кроватей с проволочными сетками, расположенных на разных уровнях. Возможно, импульсом для такого решения стал первый монолог Лаптева (Алексей Вертков), в котором он признается будущей невесте, что ему «давно хочется устроить в Москве ночлежный дом», где рабочий «должен получать порцию горячих щей с хлебом, теплую, сухую постель». Но очевиден и другой, более важный план: кровать - символ бездомности, независимо от имущественного положения персонажа. Люди не живут, а ночуют, чтобы утром покинуть дом. Уравнены в правах и владельцы большого состояния, и «вечные» студенты. Потому мы и видим их преимущественно в исподнем или полуодетыми. Мечта о Доме-Семье в идеальном, высшем смысле - ускользает от чеховских героев, и никакие деньги не избавят от смерти близких, неразделенной любви. Сценографическое решение напоминает улей с ячейками, в каждой «проживает» конкретный персонаж". Екатерина Дмитриевская, Экран и сцена, 13.07.2009
"Сергей Женовач умеет и всегда умел усмотреть гармонию в хаосе, расслышать нежную мелодию в какофонии, выхватить секунды идиллии, во мраке разглядеть мерцание света, никогда не оставляя зрителя в бездонных глубинах кошмара, будь то трагедия короля Лира или финал романа Достоевского «Идиот». Отчаянность любого момента подразумевает наличие выхода, той ниточки, которая когда-нибудь выведет из темноты. Вот, пожалуй, в самых общих чертах философия этого режиссера. Не случайно, наверное, что самая первая фраза избранной Женовачом для постановки чеховской повести говорит о ежедневном противостоянии света и темноты. Здоровое, гармоничное мироощущение вовсе не означает нечувствительности к горю и боли. Тяга к уюту на сцене еще не свидетельство незнакомства и невстречи с бесприютностью в жизни. Скорее, напротив". Мария Хализева, Экран и сцена, 13.07.2009
"Женовач ставит чеховскую повесть от и до, благо она невелика - как раз на три часа сценического времени. Ее герой Лаптев впервые страстно влюбляется в дочь провинциального лекаря Юлию, в горячке делает ей предложение, а та без любви соглашается. Эта жизнь без любви делает их обоих несчастными, порождая несчастье вокруг - умирает от рака сестра, любившая человека, открыто живущего с другой семьей, заболевает душевной болезнью и умирает брат, умирает их ребенок. Вынужденный взять на себя бремя миллионного отцовского дела, герой мучается этой обязанностью, тяготится семьей и мечтает, подобно Андрею Прозорову, бежать из дома куда глаза глядят. В его жене, наконец, просыпается чувство любви, утраченное им навсегда. Финал повести открыт, но мрачно-тревожен: "...ведь придется, быть может, жить еще тринадцать, тридцать лет... Что-то еще ожидает нас в будущем! Поживем - увидим"". Алена Карась, Российская газета, 18.06.2009
"Женовач, выбравший не пьесу, а повесть, ушел от прямого выбора. Но его спектакль показывает абсолютно непривычного зрителям Чехова. На сцене - минимум бытовых деталей. Купеческий дом, торговый амбар Лаптевых и улицы провинциального городка заменила сложная вертикальная конструкция из железных кроватей с изогнутыми спинками - декорация, отлично подходящая для чеховской «Палаты № 6» или пьесы Горького «На дне». Одежда героев напоминает больничное белье, только у Алексея Лаптева поверх исподнего - черное пальто. Как обитатели ночлежки, герои проводят жизнь в присутствии посторонних. Они карабкаются по конструкции, поднимаясь все выше, но сверху давит черный потолок. Так же давят на них и вечные вопросы - о смысле жизни, любви и возможности счастья. Они мучают Алексея Лаптева - немолодого купца, женившегося на молоденькой Юлии. И ее - согласившуюся выйти замуж без любви и испытавшую чувство к супругу в тот момент, когда он к ней уже охладел. Да и всех остальных героев". Ольга Романцова, Газета, 03.06.2009
"Выбрав неочевидный для себя материал, режиссер Сергей Женовач одержал победу. Режиссер Женовач известен тем, что ставит спектакли исключительно о хороших людях. Брал ли он Островского, Лескова или Достоевского, результат был один: сцену населяли милые и славные люди - порой страдающие, но вопреки всему счастливые. С его душевными героями почти всегда хотелось брататься, сестриться и вместе пить чай на кухне. Театр Женовача - это преимущественно теплый театр о людях с нормальной человеческой температурой.
Беря малоизвестную чеховскую повесть, Женовач вовремя понял: с Антоном Павловичем такой номер не пройдет. Хотя бы по той причине, что Чехов, как истинный доктор, всегда следит за температурой своих персонажей и хладнокровно щупает им пульс. "Три года" - это повесть о том, что на свете счастья нет, и о том, как все мы бездарно проживаем свои жизни, близясь к неминуемой медицинской развязке, которая сильно понизит температуру наших тел. В славных людях тут тоже нет недостатка, но, выпивая с ними чай на кухне, всегда помнишь о том, что в это время их судьбы рушатся". Глеб Ситковский, Труд, 03.06.2009
"Историю «отсосанных крыльев», погубленных надежд, несостоявшихся мечтаний режиссер рассказывает с редкой сценической грацией. Художник Александр Боровский создал на сцене нагромождение железных кроватей (отсылка-поклон додинскому «Московскому хору») и - точный образ скученной жизни, где все походя задевают-мешают-затаптывают друг друга. Игра света может превратить эти железные конструкции в детали причудливого ажурного музыкального инструмента, где рассевшиеся по перекладинам персонажи покажутся нотами. А боль, нескладица, неразбериха земной жизни преобразятся в небесную мелодию любви и счастья". Ольга Егошина, Новые Известия, 03.06.2009
"Женовач ведь потому и ставит для своих учеников спектакли на вырост, что не только хочет, чтобы они актерски росли и набирали мастерства, но и продолжает с института педагогическую линию. Он дает им возможность, живя трудным текстом, повзрослеть. Ведь его «Три года» в противоположность старому фильму, не сулят никакой надежды, и для перегоревшего Лаптева запоздало проснувшаяся любовь жены ничего не изменит. Он, так же, как и его потухший друг Ярцев, Полина, старик отец, больной брат, да и все вокруг - люди без будущего. Для веселых, витальных двадцатилетних сыграть эту безнадежную историю - задача надолго". Дина Годер, Время Новостей, 01.06.2009